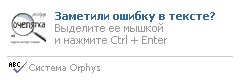
|
Написал статью: Opanasenko
Джон Бёрджер. Фотография и ее предназначения. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014
Джон Бёрджер. Фотография и ее предназначения. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014
Издательская программа музея «Гараж» пополнилась еще одной книгой — собранными под одной обложкой (но написанными в разные годы) эссе британского писателя и художественного критика Джона Бёрджера, посвященными истории и теории фотографии. «Артгид» благодарит Музей современного искусства «Гараж» и издательство Ad Marginem за возможность опубликовать главу «Образ империализма» из книги Джона Бёрджера «Фотография и ее предназначения».
 Фредди Альборта Триго. Тело Че Гевары официально представляют международной прессе в бельевом хранилище местной больнице в Вальегранде. 10 октября 1967. Фредди Альборта Триго. Тело Че Гевары официально представляют международной прессе в бельевом хранилище местной больнице в Вальегранде. 10 октября 1967.
Серебряно-желатиновый отпечаток. © The Freddy Alborta Trigo Estate
Образ империализма
Во вторник 10 октября 1967 года весь мир облетела фотография, призванная доказать, что Че Гевара был убит в предыдущее воскресенье в стычке между двумя подразделениями боливийской армии и партизанскими силами на северном берегу Рио-Гранде, возле расположенной в джунглях деревни под названием Хигуэрас. (Впоследствии эта деревня получила обещанную за поимку Че Гевары награду.) Снимок трупа был сделан в конюшне в городке Валлегранде. Тело положили на носилки, а носилки поставили на цементное корыто.
За предшествовавшие этому два года Че Гевара сделался легендарной фигурой. Никто точно не знал, где он. Не было никаких неопровержимых доказательств тому, что его кто-либо видел. Однако присутствие его постоянно предполагалось и вспоминалось. В заголовке своего последнего заявления, — посланного с партизанской базы «где-то во вселенной», адресованного Триконтинентальной конференции солидарности в Гаване, — он процитировал строчку из революционного поэта XIX века Хосе Марти: «Пришло время печей, и виден должен быть один лишь свет». Казалось, будто Че Гевара, освещенный собственным, им самим провозглашенным светом, сделался невидим и вездесущ.
Теперь он мертв. Шансы на то, что он уцелеет, были обратно пропорциональны силе легенды. Легенду следовало пригвоздить. «Нью-Йорк таймс» писала: «Если Эрнесто Че Гевара действительно был убит в Боливии, как это сейчас представляется вероятным, то последний вздох испустил не только человек, но и миф».
Обстоятельств его смерти мы не знаем. Некое представление о менталитете тех, в чьих руках он оказался, можно получить из того, как они обращались с его телом после смерти. Сначала они его спрятали. Потом выставили на обозрение. Потом захоронили в могиле без таблички в неизвестном месте. Потом откопали. Потом сожгли. Но перед тем как сжечь, они отрезали пальцы рук для последующего установления личности. Можно предположить, что у них имелись серьезные сомнения относительно того, действительно ли убитый ими был Че Геварой. Точно так же можно предположить, что сомнений у них не было, но они боялись трупа. Я склонен верить в последнее.
Цель трансляции фотографии 10 октября — положить конец легенде. И все-таки воздействие, оказанное ею на многих, было совершенно иным. Каково было ее значение? Что в точности, если отбросить всякую таинственность, означает эта фотография сейчас? Я могу лишь осторожно проанализировать ее значение в том, что касается меня самого.
Существует некое сходство между этой фотографией и картиной Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа». Место доктора занял безупречно одетый боливийский полковник с прижатым к носу платком. Две фигуры слева уставились на покойника с тем же пристальным, но безразличным интересом, что и два врача слева от доктора Тульпа. Верно, на картине Рембрандта фигур больше — как наверняка больше людей, оставшихся за кадром, в валлеграндской конюшне. Однако расположение трупа по отношению к фигурам над ним, а также ощущение вселенской неподвижности в трупе — эти вещи очень похожи.
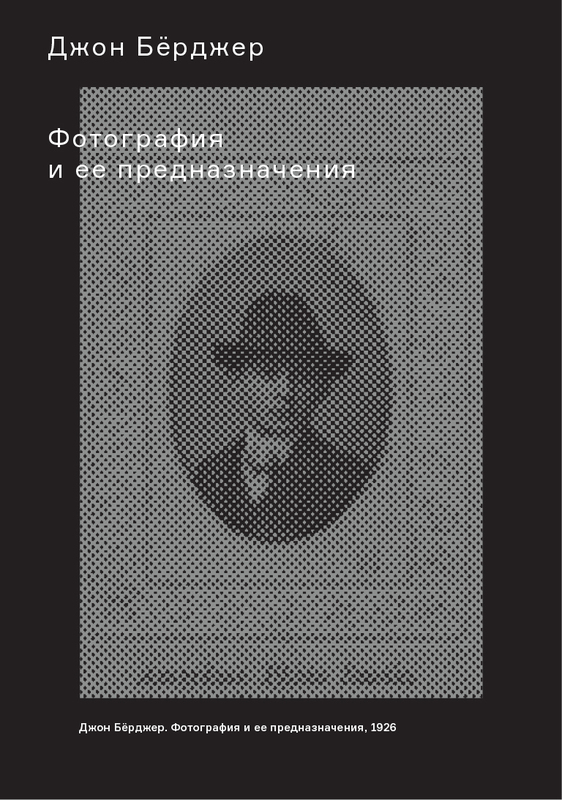
Джон Бёрджер. Фотография и ее предназначения.
М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. Обложка книги
Да и неудивительно, ведь эти два изображения обладают сходной функцией: оба предназначены показать формальное, объективное исследование трупа. Более того, оба предназначены продемонстрировать нечто на примере мертвых: первое — ради прогресса в медицине, второе — в качестве политического предупреждения. Существуют тысячи снимков мертвых и убитых. Однако они редко делаются по формальным поводам, связанным с демонстрацией чего-либо. Доктор Тульп демонстрирует связки руки, и то, что он говорит, относится к нормальной руке любого человека. Полковник с носовым платком демонстрирует конец, посланный судьбой, — по распоряжению «божественного провидения» — скандально известному руководителю партизанского движения, и то, что он говорит, должно относиться к любому партизану на континенте.
Вспомнился мне и другой образ — картина Мантеньи, изображающая мертвого Христа, которая сейчас находится в миланской пинакотеке Брера. На тело смотрят с той же высоты, но с точки, расположенной в ногах, а не сбоку. Руки в точно таком же положении, так же изогнуты пальцы. Ткань, которой задрапирована нижняя часть тела, образует такие же складки, что и пропитанные кровью, расстегнутые, оливково-зеленые брюки на теле Гевары. Голова приподнята под тем же углом. Рот так же обмяк. Христу закрыли глаза — ведь рядом с ним двое оплакивающих. Глаза Че Гевары раскрыты, ведь здесь оплакивающих нет — лишь полковник с носовым платком, агент американской разведки, несколько боливийских солдат да журналисты. Опять-таки, сходству можно не удивляться. Как же еще положить на стол покойника-преступника?
И все-таки на этот раз сходство заключается не просто в жестах и практических деталях. Чувства, с которыми я рассматривал эту фотографию на первой полосе вечерней газеты, были очень близки к той реакции на картину Мантеньи, которую я ранее, пользуясь историческим воображением, приписывал верующим того времени. Власть фотографии относительно недолговечна. Теперь, глядя на ту фотографию, я могу лишь реконструировать свои первые бессвязные эмоции. Че Гевара не был Христом. Если я снова увижу картину Мантеньи в Милане, я увижу на ней тело Че Гевары. Но это лишь потому, что в определенных редких случаях трагедия смерти человека является завершением и воплощением смысла всей его жизни. Я четко понимаю, что так было с Че Геварой; те или иные живописцы некогда понимали, что так было с Христом. Такова степень эмоционального соответствия.
Ошибка многих комментаторов, рассуждающих о смерти Че Гевары, состоит в том, что они предполагают, будто он воплощал в себе лишь воинское умение или определенную революционную стратегию. Таким образом, они говорят о шаге назад или о поражении. Я не в состоянии оценить, какую потерю нанесла смерть Че Гевары революционному движению в Южной Америке. Однако ясно, что Гевара воплощал и будет воплощать в себе нечто большее, чем детали его планов. Он воплощал в себе решение, результат.

Рембрандт. Урок анатомии доктора Тульпа. 1632.
Холст, масло. Музей Маурицхейс, Гаага
Состояние мира как он есть виделось Че Геваре невыносимым. Так стало лишь недавно. Прежде условия, в которых жили две трети людей в мире, были примерно такими же. Степень эксплуатации и порабощения была столь же высока. Страдания, связанные с этим, были столь же сильны и повсеместны. Потери были столь же колоссальны. Однако положение не было таким невыносимым, поскольку не была в полной мере известна истина об этих условиях — даже тем, кто в них находился. Истины не всегда очевидны в обстоятельствах, к которым они относятся. Они рождаются — порой слишком поздно. Эта истина родилась с борьбой и войнами за национальное освобождение. В свете новорожденной истины изменилось значение империализма. Стало видно, что у него другие требования. Раньше ему требовались дешевое сырье, рабочая сила, которую можно эксплуатировать, и контролируемый мировой рынок. Сегодня ему требуется человечество, которое можно не брать в расчет.
Че Гевара предвидел собственную смерть в революционной борьбе с империализмом.
«Где бы ни застала нас врасплох смерть, примем ее с радостью — лишь бы этот наш боевой клич сумел дойти до чьих-то внимательных ушей и кто-то другой сумел бы дотянуться рукой до нашего оружия, и другие были бы готовы исполнять погребальную песнь в ритме пулеметного стаккато, с новыми боевыми кличами войны и победы»1.
Предвиденная им смерть стала мерой того, до какой степени невыносима была бы его жизнь, прими он невыносимые условия существующего мира. Предвиденная им смерть стала мерой необходимости изменить мир. Именно по праву, дарованному ему предвидением собственной смерти, он сумел жить с той гордостью, что пристало иметь человеку.
Когда до нас дошли новости о его смерти, я услышал, как кто-то сказал: «Он был всемирным символом возможностей одного человека». Почему это так? Потому что Че Гевара понимал, что именно для человека невыносимо, и поступал в соответствии с этим.
Та мера, которую Че Гевара прилагал к своей жизни, внезапно сделалась чем-то отдельным от него, заполонившим мир и унесшим его жизнь. Предвиденная им смерть произошла на деле. Об этом и повествует та фотография. Возможностей не стало. Вместо них — кровь, запах формалина, неухоженные раны на необмытом теле, мухи, несуразные брюки — мелкие частные подробности тела, посмертно выставленного напоказ так же публично, в таком же безличном, уничтоженном виде, как стертый с лица земли город.
Че Гевара погиб, окруженный врагами. То, что они делали с ним, пока он был жив, вероятно, сопоставимо с тем, что они делали с ним после его смерти. В минуту крайнего отчаяния он мог полагаться лишь на собственные решения, принятые ранее. Таким образом, круг замкнулся. Заявлять, будто тебе известно хоть что-то о пережитом им в тот момент, или в ту вечность, было бы пошлейшей глупостью. Его безжизненное тело, такое, каким мы видим его на фотографии, — единственное имеющееся у нас свидетельство. Однако у нас есть право на то, чтобы вывести логику происходящего, когда круг замкнулся. Истина обнаруживается путем движения в обратном направлении. Предвиденная им смерть — теперь уже не мера необходимости изменить невыносимое состояние мира. Теперь, когда ему известно о своей настоящей смерти, он находит меру оправдания своей жизни в ней самой, и мир как пережитое им самим становится для него выносимым.

Фредди Альборта Триго. Тело Че Гевары официально представляют международной прессе в бельевом хранилище местной больнице в Вальегранде. 10 октября 1967.
Серебряно-желатиновый отпечаток. © The Freddy Alborta Trigo Estate
Предвидение этой финальной логики отчасти составляет то, что позволяет человеку или людям бороться вопреки всему. В этом отчасти содержится секрет того морального фактора, что втрое превосходит силу оружия.
На этой фотографии изображен момент — тот момент, когда тело Че Гевары, искусственным образом сохраненное, стало всего лишь объектом демонстрации. В этом заключен ее первоначальный ужас. Но что же она призвана продемонстрировать? Этот самый ужас? Нет. Она призвана продемонстрировать момент ужаса, личность Че Гевары и, предположительно, абсурдность революции. И все-таки, в силу самой этой цели, данный момент удается преодолеть. Жизнь Че Гевары и идея или факт революции немедленно наводят на мысль о процессах, которые этому моменту предшествовали и которые продолжаются сейчас. Гипотетически рассуждая, те, кто устроил съемку и разрешил публикацию фотографии, могли добиться своей цели лишь при одном условии: если бы они целиком заморозили состояние мира в тот момент — если бы они остановили жизнь. Только так можно было бы отрицать то, что содержал в себе живой пример Гевары. В реальности же фотография либо не имеет смысла, поскольку у смотрящего смутные представления о том, что тут происходит, либо ее смысл отрицает или лишает силы эту демонстрацию.
Я сравнил ее с двумя картинами, поскольку до изобретения фотографии картины были единственным дошедшим до нас визуальным свидетельством о том, как люди видели то, что они видели. Однако по оказываемому ею воздействию она коренным образом отличается от картины. Картина (по крайней мере удачная) — попытка примириться с процессами, о которых напоминает ее тема. Она даже подразумевает некое отношение к этим процессам. Картину саму по себе можно считать вещью едва ли не завершенной. Столкнувшись с этой фотографией, мы должны либо отмахнуться от нее, либо самостоятельно придать ее смыслу завершенность. Это образ, который, насколько такое возможно для немого образа, призывает к решению.
Октябрь 1967-го
Подстегнутый другой недавней газетной фотографией, я продолжаю размышлять о смерти Че Гевары.
До конца XVIII века, если человек предвидел свою смерть как, возможно, прямое следствие своего выбора определенного хода действий, то в этом заключалась мера его верности как слуги. Так было всегда, безотносительно к социальному положению или степени привилегированности человека. Между ним и его собственным смыслом всегда стоит сила, с которой возможны лишь взаимоотношения, предполагающие службу или зависимость. Можно считать эту силу абстрактной Судьбой. Чаще всего ее воплощал в себе Бог, Король или Хозяин.
Таким образом, выбор, который способен сделать человек (выбор, предсказуемым последствием которого может стать смерть), на удивление неполон. Это выбор, представленный на утверждение высшей силе. Сам человек способен судить лишь sub judice2 — в конце концов судить будут его. В обмен на эту ограниченную ответственность он получает преимущества. Преимущества могут быть разными: от признания хозяином его отваги до вечного блаженства в раю. Однако во всех случаях окончательное решение и окончательное преимущество размещаются вовне его собственного «я» и жизни. Следовательно, смерть — казалось бы, столь определенная конечная цель — для него является средством, к которому он обращается ради чего-то последующего. Смерть подобна игольному ушку, сквозь которое его продевают. Такова разновидность его героизма.

Андреа Мантенья. Мертвый Христос. 1490. Холст, темпера. Пинакотека Брера, Милан
Французская революция изменила природу героизма. (Уточню, что я говорю не о конкретных примерах отваги: способность выносить боль или пытки, воля к атаке под огнем, быстрота и легкость движений и принятия решений в бою, спонтанность взаимовыручки перед лицом опасности — эти проявления отваги следует в целом определять как опыт физический, и они, вероятно, почти не изменились со временем. Я говорю лишь о выборе, который может предшествовать подобным проявлениям.) Французская революция выводит на суд короля и приговаривает его к смерти.
Сен-Жюст, двадцати пяти лет от роду, в первой своей речи перед Конвентом рассуждает о том, что монархия есть преступление, поскольку король узурпирует суверенитет народа. «Невинное правление невозможно — совершенно ясно, что утверждать так — безумие. Всякий король — мятежник и узурпатор»3.
Верно, что Сен-Жюст служит — в его собственном понимании — общей народной Воле, но такой выбор он сделал сам, поскольку верит в то, что Народ, если дать ему быть верным своей природе, воплощает в себе Разум, а Республика воплощает в себе Добродетель.
«В мире существуют три разновидности гнусностей, на компромисс с которыми республиканская добродетель никогда не пойдет: первая — короли, вторая — служение королям, третья — сложение оружия до тех пор, покуда где-то на свете существуют хозяин и слуга»4.
Теперь становится менее вероятным, чтобы человек предвидел собственную смерть как меру верности слуги своему хозяину. Предвиденная им смерть будет, скорее, мерой его любви к Свободе — доказательством принципа его собственной свободы.
Спустя двадцать месяцев после своей первой речи Сен-Жюст проводит ночь перед казнью за письменным столом. Он не предпринимает никаких активных попыток спастись. Он уже написал:
«Обстоятельства сложны лишь для тех, кто отшатывается от могилы <…> Я презираю прах, из которого состою, прах, который с вами говорит, — преследовать этот прах и положить ему конец способен любой. Но пусть кто-нибудь попытается отнять у меня то, что я сам себе дал, независимую жизнь в небесах столетий»5.
«То, что я сам себе дал». Теперь окончательное решение находится внутри «я». Впрочем, не категорически, не полностью — тут существует определенная двусмысленность. Бога больше нет, однако Высшее существо Руссо тут как тут, дабы запутать вопрос с помощью метафоры. Метафора позволяет поверить в то, что твое «я» примет участие в суде истории над твоей собственной жизнью. «Независимая жизнь в небесах» суда истории. Здесь по-прежнему витает призрак существовавшего ранее порядка.
Даже когда Сен-Жюст заявляет противоположное — в последней вызывающей речи в защиту Робеспьера и самого себя, — двусмысленность остается.
«Слава — пустой звук. Прислушаемся к прошедшим векам — мы уже ничего не слышим; те, кто в другое время будет прогуливаться среди урн с прахом, более ничего не услышат. Добро, какова бы ни была его цена, — вот за чем надо гоняться, предпочитая звание мертвого героя званию живого труса»6.

Галина Санько. На русской земле. 1941.
Черно-белая фотография
Однако в жизни, в отличие от театра, мертвый герой никогда не слышит, чтобы его так называли. Политической сцене революции часто свойственны театральные тенденции, поскольку тут содержится пример. Мир смотрит, чтобы научиться.
«Тираны со всего света смотрели на нас, ибо мы судили одного из них. Сегодня, когда вы, волею более счастливой судьбы, рассуждаете о свободе мира, те, кто поистине является великими мира сего, в свою очередь, смотрят на вас»7. (Сен-Жюст, доклад о Конституции, представленный Конвенту.)
И все-таки, несмотря на истинность этих высказываний, тут, рассуждая философски, можно усмотреть следующее: в некотором смысле Сен-Жюст умирает, с триумфом замкнувшись в своей «сценической» роли. (Эти слова ни в коем случае не умаляют его мужества.)
За Французской революцией — век буржуазии. У тех немногих, кто предвидел собственную смерть (а не собственную фортуну) как прямое следствие своих принципиальных решений, подобная пограничная двусмысленность исчезает.
Противостояние живого человека и мира — такого, каким он его видит, — становится тотальным. Тут нет ничего внешнего, даже принципов. Предвидимая человеком смерть — мера его отказа принимать то, что ему противостоит. За пределами этого отказа ничего нет.
Русский анархист Войнаровский, убитый при покушении на адмирала Дубасова, писал: «Не изменившись ни в одном мускуле лица и не побледнев, я взойду на эшафот. <...> И это будет не насилие над собой <…> — это будет вполне естественный результат того, что я пережил»8.
Он предвидит собственную смерть на эшафоте — а множество русских террористов в те времена умерли именно так, как он описывает, — словно говорит о мирном конце старика. Почему он способен на это? Психологических объяснений тут недостаточно. Дело в том, что мир России, достаточно широкий, чтобы казаться похожим на весь мир, представляется ему невыносимым. Мир невыносим не для него лично (как представляется мир само убийце) — он невыносим как таковой. Предвосхищаемая им смерть — «вполне естественный результат того», что он пережил в попытке изменить мир, поскольку предвидеть что-либо меньшее означало бы, что «невыносимое» представляется ему выносимым.
Ситуация (но не политическая теория) русских анархистов в начале ХХ века во многих отношениях является предтечей нынешней ситуации. Небольшое различие заключается в том, что «мир России» только кажется похожим на весь мир. Строго говоря, за пределами России существовала альтернатива. Таким образом, чтобы разрушить эту альтернативу и превратить Россию в мир, послушный себе, многие анархисты тяготели к несколько мистическому патриотизму. Сегодня альтернативы нет. Мир — единое целое, и он стал невыносим.
Возможно, вы спросите: был ли он выносимее когдалибо прежде? Было ли в нем когда-либо меньше страданий, меньше несправедливости, меньше эксплуатации? Подобных оценок не бывает. Необходимо сознавать, что невыносимость мира есть, в некотором смысле, историческое достижение. Мир не был невыносимым, пока существовал Бог, пока витал призрак существовавшего ранее порядка, пока крупные участки мира оставались непознанными, пока имелась вера в различие между духовным и материальным (именно в нем многие по-прежнему находят оправдание тому, чтобы считать мир выносимым), пока была вера в естественное неравенство людей.

Вьетнамская женщина с оружием, приставленным к ее голове. Вьетнамская война. 1969. Черно-белая фотография.
© Keystone / Hulton Archive / Getty Images
На фотографии крестьянку из Южного Вьетнама допрашивает американский солдат. К ее виску приставлено дуло пистолета, а сзади чья-то рука хватает ее за волосы. Прижатый пистолет собирает в морщины кожу ее лица, преждевременно состарившуюся, обвисшую.
Войнам всегда сопутствовали убийства. Допрос под угрозой пытки практиковался веками. И все-таки смысл, который можно найти — даже с помощью фотографии — в жизни этой женщины (а теперь уже, вероятно, в ее смерти), нов.
Он будет включать в себя каждую личную черту, видимую или воображаемую: то, как расчесаны на пробор ее волосы, кровоподтек на щеке, слегка распухшая нижняя губа; ее имя и все те различные значения, которые оно приобрело в понимании тех, кто к ней обращается; ее детские воспоминания; особенности ее ненависти к тому, кто ее допрашивает; таланты, присущие ей от рождения; каждая деталь тех обстоятельств, при которых она до сих пор избегала смерти; интонация, с которой она произносит имя каждого человека, которого любит; диагнозы всех недомоганий, какими бы она ни страдала, и их социальные и экономические причины; все, что она в своем тончайшем сознании противопоставляет дулу пистолета, с силой прижатому к ее виску. А еще он будет включать в себя мировые истины: не бывало еще насилия столь интенсивного, широко распространенного и долговременного, как то, которое империалистические страны применяют к большей части мира; войну во Вьетнаме ведут, чтобы стереть с лица земли пример объединившегося народа, который восстал против этого насилия и провозгласил свою независимость. Тот факт, что вьетнамцы оказываются непобедимыми в схватке с величайшей империалистической силой на свете, есть доказательство необычайных ресурсов, которыми обладает тридцатидвухмиллионная нация. В других точках мира ресурсы (те, что включают в себя не только материалы и рабочую силу, но и возможности каждой человеческой жизни) наших двух миллиардов растрачиваются впустую и подвергаются злоупотреблениям.
Кругом говорят, что эксплуатация в мире должна прекратиться. Известно, что эксплуатация усиливается, расширяется, процветает и становится все более жестокой, когда эксплуататоры встают на защиту своего права эксплуатировать.
Давайте выскажемся ясно: невыносима не сама война во Вьетнаме — Вьетнам подтверждает невыносимость нынешнего состояния мира. Это состояние таково, что пример вьетнамского народа подает надежду.
Че Гевара осознал это и действовал соответственно. Мир не является невыносимым, пока существует — пусть отрицаемая — возможность его преобразовать. Социальные силы, исторически способные вызвать эту трансформацию, определены — по крайней мере в общих понятиях. Че Гевара решил отождествить себя с этими силами. Поступая так, он подчинялся не так называемым законам истории, но исторической природе собственного существования.
Предвиденная им смерть — теперь уже не мера верности слуги и не неизбежный конец героической трагедии. Игольное ушко смерти сомкнулось — не осталось ничего, что можно сквозь него продеть, даже будущего (неведомого) суда истории. Если принять как данность то, что Гевара не выступит с призывом из-за пределов бытия, что он воплощает в себе максимально возможное осознание всего, что ему известно, то предвиденная им смерть стала мерой его полной преданности делу, его полной независимости.
Резонно предположить, что после принятия человеком — таким, как Гевара — окончательного решения бывают моменты, когда он осознает свою свободу, качественно отличную от любой свободы, какую испытывали прежде.
Это необходимо запомнить — а также боль, жертвы и колоссальные усилия, этому сопутствовавшие. В письме родителям после отъезда с Кубы Че Гевара писал:
«Теперь та сила воли, которую я оттачивал со вниманием, достойным художника, будет поддерживать мои слабые ноги и изношенные легкие. Я дойду до цели»9.
1967, декабрь
ВВЕРХ
|